Прощание с матерой. Размышления над прочитанной книгой В.Г
Цели:
Расширить представление учащихся о символике художественного пространства, обратив особое внимание на самый конфликтный участок – границу;
Развивать навык анализа текста художественного произведения с точки зрения неоднородности составных частей художественного пространства;
Воспитывать в детях любовь к своей малой родине, бережное отношение к природе, активизировать в речи следующие слова и выражения: оберег, мёртвые пращуры, контакт, патриархальный мир, эксцесс.
Ход урока.
В 5 – 7 классах вы получили представление о том, что такое главное событие произведения, какое место занимает герой в цепи этих событий. Все места главных событий, вместе взятые, образуют художественное пространство, составные части которого весьма неоднородны. По своему характеру они подразделяются на две группы: «свой» мир и «чужой» мир.
Задача нашего урока: провести границу между участками художественного пространства в повести Распутина /см. портрет/ «Прощание с Матёрой», выяснить её символическое значение в произведении.
В 1977 году В. Г. Распутин написал по поводу недавно вышедшей книги: «Я не мог не написать «Матёру», как сыновья, какие бы они ни были, не могут не проститься со своей умирающей матерью. Эта повесть в определенном смысле для меня рубеж в писательской работе. На Матёру уже вернуться нельзя: остров затопило. Очевидно, придется вместе с жителями деревни, которые мне дороги, перебираться в новый посёлок и посмотреть, что станет с ними».
Фактическим материалом для повести послужил автобиографический очерк «Вниз и вверх по течению» /1972/
II. Эвристическая беседа.
I глава – Где разворачивается действие повести?
Расскажите историю деревни Матёры.
Чем живёт остров Матёра?
Триста лет деревне Матёре, а сколько острову с тем же названием, никто не знает. Только повидала она на своём веку всякое: поднимались мимо неё в древности вверх по Ангаре бородатые казаки, подворачивали на ночевку торговые люди; Грохотали бои между колчаковцами и партизанами.
Знала деревня и наводнения, и пожары и голод, и разбой. Так жила деревня, перемогая любые времена и напасти… И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне.
Каков смысл названия деревни?
Матёра – по – разному можно толковать происхождение этого слова: звучит в нём что – то материнское, ласково – властное, можно услышать и «матёрость» - зрелость, возмужалость.
Учитель: Автор и сам объясняет название этой земли, и нам этого довольно: «Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке – не потому ли и называлась громким именем Матёра?»
Матёра со своей размеренной жизнью и есть то художественное пространство, которое мы символически и называем «свой» мир.
Чем встревожены жители Матёры?
Между двумя мирами – граница /см. схему/
Чем встревожены жители Матёры?
«Ниже по Ангаре строят плотину для электростанций, вода по реке и речка поднимется и разольётся, заторит многие земли, и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку 5 таких островов, всё равно затопит с макушкой…»
Учитель: С первых страниц идёт проникновение «чужого» мира в устоявшийся порядок, уклад жизни. Для жителей Матёры это беда, для людей, построивших ГЭС – важное дело.
Между двумя мирами – граница
Каждое пространство стремится к цели. «Свой» мир – продлить жизнь Матёре /в тексте: оторочить, обмануть себя с. 159/
Символическая граница «своего» мира /граница малой родины/ нарушена. Таким образом, разрушена священная граница, охраняющая человека в «своём» мире, поэтому и началось проникновение иномирия на Матёру.
Проследим по главам, как идёт это проникновение, какие изменения внесёт в жизнь Матёры?
У: I глава «Та Матёра и не та…» с. 153
«Всё на месте, да всё не так».
2 – 3 главы «Могилы зорют» с. 163
16 глава «И запылала Подмога - вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем леса. Мельницу запалили…» с.263
20 глава «Весь верхний край Матёры… был уже подчищен, на нижнем оставалось… шесть избёнок».
«Ты, бабка, в своём уме! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!»
Учитель: таким образом, «чужой» мир несёт разрушение, опустошение. На страницах повести люди из «чужого» мира названы по – разному:
Богодул – «чертями»
Дарья – «чужими», «поганцами», «пожогщиками»
Но самое, пожалуй, печальное, что вредители есть и на своей стороне.
У: стр. 267 «На этот раз должно было икаться Петрухе… не жалуется».
Кто пытается защитить границы «своего» мира?
У: Старухи. с. 168
Богодул защищает границы «своего» мира, к которому он «приклеился».
Учитель: Дом, могилы – символы родового благополучия. Дарья связана с предками через могилы как хранительница родного гнезда и родового очага. Поэтому так самоотверженно защищают они «свой» мир.
У: - Марш! – кому говорят!...
Ты перед всем миром ответишь! /выразительное чтение отрывка/
Учитель: для Дарьи малая родина и всё, чтос не связано, - это «модель» всего белого света. Поэтому и слышен из её уст: «Перед всем миром ответишь».
У: 18 глава с. 283 «Я ваша, ваша, мне к вам надо… я вашего веку».
Учитель: Прощание с избой – своего рода обряд.
У: 7 глава с. 194 «Только на окнах остались занавески…»
«… мы с тобой ешо повидимся…»
Учитель: Дарья находит поддержку у «царского лиственя»
У: 20 глава с. 298 /сцена у лиственя/.
Учитель: вновь свой мир защищает свои пределы. Вмешиваются даже помощники, волшебные мифологические существа. До последнего не сдаётся «царский листвень» - своего рода модель мироздания.
Пересказ близко к тексту из 19 главы
Учитель: Хранителем острова, символическим оберегом стал Хозяин. Глава 6.
Мы видим. Что «чужой» мир входит в контакт не по правилам,
Неся с собой насилие: дед Егор начинает чураться людей, стонут без сна и мучаются старые люди, слышится предсмертный вой Хозяина – голос погибающего острова.
Какую роль выполняет IIглава в художественном пространстве повести?
У: в II главе видим, как идёт воскрешение, обновление на Матёре. с. 221 – 222.
Учитель: Вы увидели, что существует между двумя мирами контакт, общение, связь, соприкосновение.
Что представляет собой иномирие?
Почему неуютно в нём?
У: I глава. Настасья: «Посередь чужих – то! Кто ж старое дерево пересаживает?!»
III глава. Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты.
5 глава. с. 185 – 186. «огородик на полторы сотки».
9 глава. с. 211. «Объяснение простое…»
15 глава. «Сторона хоть и дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи…»
22 глава. с. 306 «Ровными, правильными рядами…»
с. 309 «… и если посёлок действительно походил на пасеку…»
Учитель: Всё впереди казалось чужим и непрочным.
Так ли уж необходим этот контакт?
Не слишком ли дорогая цена?
Этими вопросами постоянно задаются люди повести. Так им ответить?
Да, если контакт между мирами идёт не по правилам, то он предполагает хаос, потому посёлок /чужой» мир/ является обиталищем людей без родовой памяти, поэтому и не жалко молодым Матёры /»Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх…»/. Поэтому и озабочен Петруха лишь одним – скорее получить деньги за усадьбу, поэтому и пожогщикам всё равно, что поджигать: дома, кресты или листвень.
Таким образом, анализируя эпизоды повести, мы расширили своё представление о символике художественного пространства, выделив границы, «охраняющие» человека. И когда постепенно, круг за кругом эти границы разрушаются, с «свой» мир начинает проникать иномирие. И виновниками этого являются сами люди, живущие на своей земле. «Поэтому затопление островов, сожжение деревенских изб – символ нравственного и духовного конца патриархального мира Матёры».
И последний вопрос:
Какие по – вашему основные нравственные вопросы решает автор в своём произведении?
У: Проблема охраны окружающей среды.
Любовь к своей малой родине.
Учитель: Много таких деревушек и посёлков было снесено с лица земли. Был нарушен многолетний уклад жизни людей.
Бездумная деятельность человека по отношению к своему родовому гнезду породила множество таких, как Петруха, отчего наша жизнь сошла с наезженной колеи и потеряла в большинстве случаев нравственные ориентиры.
Поэтому я хочу, чтобы дома вы задумались над словами, которые произносит бабка Дарья в ответ Андрею и написали сочинение – рассуждение, основываясь на материалах урока.
«Человек – царь природы, - сказал Андрей.
Вот – вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет, - ответила Дарья.»
Символичны последние строки повести./ выразительно чтение отрывка «Туман» учителем/
Я очень надеюсь, что вы не станете поколением, блуждающим в тумане, сохраните главное – духовную связь с землёй.
Граница разрывает туман, и вы должны стать поколением, которое остро чувствует, через какую границу нельзя переступить.
/Звучит колокольный набат /.Этот набат звучит по каждому из нас.
Список использованной литературы.
1. Жирмунский В. М. Теория литературы.Поэтика. Стилистика.-Л.,1977
2. Храпченко М. Б. Размышления о системном анализе литературы Контекст 1975.-М., 1977
3. «Прощание с Матерой» как мифологическая повесть (из книги Шахерова О.А. Распутин в школе). \Книга для учителя.-М..Дрофа, 2004
Скачать:
Предварительный просмотр:
Граница как один из участков художественного пространства в повести В.Распутина «Прощание с Матерой»
Цели:
Расширить представление учащихся о символике художественного пространства, обратив особое внимание на самый конфликтный участок – границу;
Развивать навык анализа текста художественного произведения с точки зрения неоднородности составных частей художественного пространства;
Воспитывать в детях любовь к своей малой родине, бережное отношение к природе, активизировать в речи следующие слова и выражения: оберег, мёртвые пращуры, контакт, патриархальный мир, эксцесс.
Ход урока.
I. Вступительное слово учителя.
В 5 – 7 классах вы получили представление о том, что такое главное событие произведения, какое место занимает герой в цепи этих событий. Все места главных событий, вместе взятые, образуют художественное пространство, составные части которого весьма неоднородны. По своему характеру они подразделяются на две группы: «свой» мир и «чужой» мир.
Задача нашего урока: провести границу между участками художественного пространства в повести Распутина /см. портрет/ «Прощание с Матёрой», выяснить её символическое значение в произведении.
В 1977 году В. Г. Распутин написал по поводу недавно вышедшей книги: «Я не мог не написать «Матёру», как сыновья, какие бы они ни были, не могут не проститься со своей умирающей матерью. Эта повесть в определенном смысле для меня рубеж в писательской работе. На Матёру уже вернуться нельзя: остров затопило. Очевидно, придется вместе с жителями деревни, которые мне дороги, перебираться в новый посёлок и посмотреть, что станет с ними».
Фактическим материалом для повести послужил автобиографический очерк «Вниз и вверх по течению» /1972/
II. Эвристическая беседа.
I глава – Где разворачивается действие повести?
Расскажите историю деревни Матёры.
Чем живёт остров Матёра?
Триста лет деревне Матёре, а сколько острову с тем же названием, никто не знает. Только повидала она на своём веку всякое: поднимались мимо неё в древности вверх по Ангаре бородатые казаки, подворачивали на ночевку торговые люди; Грохотали бои между колчаковцами и партизанами.
Знала деревня и наводнения, и пожары и голод, и разбой. Так жила деревня, перемогая любые времена и напасти… И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне.
Каков смысл названия деревни?
Матёра – по – разному можно толковать происхождение этого слова: звучит в нём что – то материнское, ласково – властное, можно услышать и «матёрость» - зрелость, возмужалость.
Учитель: Автор и сам объясняет название этой земли, и нам этого довольно: «Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке – не потому ли и называлась громким именем Матёра?»
Матёра со своей размеренной жизнью и есть то художественное пространство, которое мы символически и называем «свой» мир.
Чем встревожены жители Матёры?
Между двумя мирами – граница /см. схему/
Чем встревожены жители Матёры?
«Ниже по Ангаре строят плотину для электростанций, вода по реке и речка поднимется и разольётся, заторит многие земли, и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку 5 таких островов, всё равно затопит с макушкой…»
Учитель: С первых страниц идёт проникновение «чужого» мира в устоявшийся порядок, уклад жизни. Для жителей Матёры это беда, для людей, построивших ГЭС – важное дело.
Между двумя мирами – граница
Каждое пространство стремится к цели. «Свой» мир – продлить жизнь Матёре /в тексте: оторочить, обмануть себя с. 159/
Символическая граница «своего» мира /граница малой родины/ нарушена. Таким образом, разрушена священная граница, охраняющая человека в «своём» мире, поэтому и началось проникновение иномирия на Матёру.
Проследим по главам, как идёт это проникновение, какие изменения внесёт в жизнь Матёры?
У: I глава «Та Матёра и не та…» с. 153
«Всё на месте, да всё не так».
2 – 3 главы «Могилы зорют» с. 163
16 глава «И запылала Подмога - вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем леса. Мельницу запалили…» с.263
20 глава «Весь верхний край Матёры… был уже подчищен, на нижнем оставалось… шесть избёнок».
«Ты, бабка, в своём уме! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!»
Учитель: таким образом, «чужой» мир несёт разрушение, опустошение. На страницах повести люди из «чужого» мира названы по – разному:
Богодул – «чертями»
Дарья – «чужими», «поганцами», «пожогщиками»
Но самое, пожалуй, печальное, что вредители есть и на своей стороне.
Кто же?
У: стр. 267 «На этот раз должно было икаться Петрухе… не жалуется».
Кто пытается защитить границы «своего» мира?
У: Старухи. с. 168
Богодул защищает границы «своего» мира, к которому он «приклеился».
Учитель: Дом, могилы – символы родового благополучия. Дарья связана с предками через могилы как хранительница родного гнезда и родового очага. Поэтому так самоотверженно защищают они «свой» мир.
У: - Марш! – кому говорят!...
Ты перед всем миром ответишь! /выразительное чтение отрывка/
Учитель: для Дарьи малая родина и всё, чтос не связано, - это «модель» всего белого света. Поэтому и слышен из её уст: «Перед всем миром ответишь».
У: 18 глава с. 283 «Я ваша, ваша, мне к вам надо… я вашего веку».
Учитель: Прощание с избой – своего рода обряд.
У: 7 глава с. 194 «Только на окнах остались занавески…»
«… мы с тобой ешо повидимся…»
Учитель: Дарья находит поддержку у «царского лиственя»
У: 20 глава с. 298 /сцена у лиственя/.
Учитель: вновь свой мир защищает свои пределы. Вмешиваются даже помощники, волшебные мифологические существа. До последнего не сдаётся «царский листвень» - своего рода модель мироздания.
Пересказ близко к тексту из 19 главы
Учитель: Хранителем острова, символическим оберегом стал Хозяин. Глава 6.
Мы видим. Что «чужой» мир входит в контакт не по правилам,
Неся с собой насилие: дед Егор начинает чураться людей, стонут без сна и мучаются старые люди, слышится предсмертный вой Хозяина – голос погибающего острова.
Какую роль выполняет IIглава в художественном пространстве повести?
У: в II главе видим, как идёт воскрешение, обновление на Матёре. с. 221 – 222.
Учитель: Вы увидели, что существует между двумя мирами контакт, общение, связь, соприкосновение.
Что представляет собой иномирие?
Почему неуютно в нём?
У: I глава. Настасья: «Посередь чужих – то! Кто ж старое дерево пересаживает?!»
III глава. Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты.
5 глава. с. 185 – 186. «огородик на полторы сотки».
9 глава. с. 211. «Объяснение простое…»
15 глава. «Сторона хоть и дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи…»
22 глава. с. 306 «Ровными, правильными рядами…»
с. 309 «… и если посёлок действительно походил на пасеку…»
Учитель: Всё впереди казалось чужим и непрочным.
Так ли уж необходим этот контакт?
Не слишком ли дорогая цена?
Этими вопросами постоянно задаются люди повести. Так им ответить?
Да, если контакт между мирами идёт не по правилам, то он предполагает хаос, потому посёлок /чужой» мир/ является обиталищем людей без родовой памяти, поэтому и не жалко молодым Матёры /»Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх…»/. Поэтому и озабочен Петруха лишь одним – скорее получить деньги за усадьбу, поэтому и пожогщикам всё равно, что поджигать: дома, кресты или листвень.
Таким образом, анализируя эпизоды повести, мы расширили своё представление о символике художественного пространства, выделив границы, «охраняющие» человека. И когда постепенно, круг за кругом эти границы разрушаются, с «свой» мир начинает проникать иномирие. И виновниками этого являются сами люди, живущие на своей земле. «Поэтому затопление островов, сожжение деревенских изб – символ нравственного и духовного конца патриархального мира Матёры».
И последний вопрос:
Какие по – вашему основные нравственные вопросы решает автор в своём произведении?
У: Проблема охраны окружающей среды.
Любовь к своей малой родине.
Учитель: Много таких деревушек и посёлков было снесено с лица земли. Был нарушен многолетний уклад жизни людей.
Бездумная деятельность человека по отношению к своему родовому гнезду породила множество таких, как Петруха, отчего наша жизнь сошла с наезженной колеи и потеряла в большинстве случаев нравственные ориентиры.
Поэтому я хочу, чтобы дома вы задумались над словами, которые произносит бабка Дарья в ответ Андрею и написали сочинение – рассуждение, основываясь на материалах урока.
«Человек – царь природы, - сказал Андрей.
Вот – вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет, - ответила Дарья.»
Символичны последние строки повести./ выразительно чтение отрывка «Туман» учителем/
Я очень надеюсь, что вы не станете поколением, блуждающим в тумане, сохраните главное – духовную связь с землёй.
Граница разрывает туман, и вы должны стать поколением, которое остро чувствует, через какую границу нельзя переступить.
/Звучит колокольный набат /.Этот набат звучит по каждому из нас.
Список использованной литературы.
1. Жирмунский В. М. Теория литературы.Поэтика. Стилистика.-Л.,1977
2. Храпченко М. Б. Размышления о системном анализе литературы Контекст 1975.-М., 1977
3. «Прощание с Матерой» как мифологическая повесть (из книги Шахерова О.А. Распутин в школе). \Книга для учителя.-М..Дрофа, 2004
Есть многие основания для утверждения того, что в процессе работы над повестью писатель переживал состояние, близкое состоянию человека, участвующего в ритуальном действе. Стремясь воплотить в слове всю полноту любви и бездну трагедии прощания с родной землей, он неосознанно воплотил в произведении модель ритуала. Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Изображение времени и пространства в повести.
Распутин представляет читателю священное время ритуала прощания, и как во всяком ритуале, время в повести имеет особые свойства. Необходимо напомнить, что в современной философии существуют представления о разных способах понимания человеческого бытия в мире. Используя терминологию Мирчи Элиаде, их можно назвать словами «мирское» и «священное». Это противоположные типы мировосприятия, в соответствии с которыми одни и те же события, явления или предметы наделяются разными значениями. То, что для мирского опыта является обычным, объяснимым с помощью научных знаний, принятых в культуре представлений или ограничений, для священного опыта всегда связано с представлением о тайне, об опыте приобщения к тайне и ее постижении.
Если рассматривать события, происходящие на Матере, в обычном, мирском времени, то они будут восприниматься как переселение людей с одного места жительства на другое. Автор же изображает течение священного времени, обладающего особенными свойствами. Священное время - это время праздников и ритуалов. Главное его свойство – обратимость, то есть оно буквально является первичным мифическим временем, преобразованным в настоящее (7,48-74). Ритуал воспроизводит в настоящем какое-либо священное событие, происходившее в мифическом прошлом, «в начале». Участие в празднике или ритуале предполагает выход из «обычной» временной протяженности для восстановления мифического времени, соединенного с настоящим самим ритуалом. Таким образом, священное время - это время круговое, обратимое, восстанавливаемое Время, некое вечное настоящее, которое восстанавливается посредством обрядов.
Время в повести многомерно: в настоящем присутствует прошлое и предвещается будущее. Главной особенностью изображения времени является существование двух временных перспектив: «прямой» и «обратной». Прямая временная перспектива понимается как динамика сюжета, обратная - постоянное знание о надвигающемся конце, проявляющееся в речи повествователя и самоощущениях героев. Обратная перспектива возникает уже в первом предложении повести: «И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матеры...» Такое противопоставление - весна... в нескончаемом ряду, но последняя, означающее одновременное движение жизни и остановку ее, продолжится и дальше: « Опять... понесло лед...», «Опять... зашумела вода...», «Все на месте, да не все так...» (ВР,1,159). Вторая часть первой главы строится также на противопоставлении: начинаясь с рассказа о первом мужике, который триста лет назад основал деревню, и, продолжаясь повествованием о расположении деревни и острова, заканчивается описанием причины переселения людей и ограничением времени: последнее лето. Так соединяется прошлое и настоящее. Обратная временная перспектива - «предчувствие» надвигающихся событий - это как бы «прототип будущих переживаний, тени, отбрасываемые будущим в настоящее.» (8,19) На таком временном противоречии организовано все повествование, и это свидетельствует о наличии мифологической основы в повести.
Такая концентрированность развития в единице времени присуща ритуалу, может восприниматься (и отражаться) религиозным сознанием, различающим мирской и священный человеческий опыт. Настойчивые указания автора на одновременное развитие и завершение времени, о котором говорилось выше, свидетельствуют о необычности переживаемого героями и самим автором моменте.
Точно так же организуется и пространство повести. Изображение острова и реки дается многократно.
«Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом, - было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой…» (ВР,1,160).
«Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки…» (ВР,1,161).
«Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.» (ВР,1,169).
«Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие острова, и свою Матеру… И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой предназначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому и назвалась громким именем Матера?…Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (листвень – на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой.» (ВР,1,184)
Детальное описание острова (расположение деревни, кладбища, мельницы, лугов, поскотины, болота, леса), по которому легко составить топографическую карту, сопрягается с описанием космоса Матеры: течи воды и времени, соединением синевы неба и Ангары, сияния солнца и блеска звезд. Наличие двойного взгляда на время-пространство - частного и общего - обеспечивает сосредоточение на смысле событий не только в их конкретном проявлении, но и в более крупном - общечеловеческом - масштабе.
На Матере есть все необходимое для физического существования человека: земля, вода, лес, поля. Одновременно пространство острова является священным пространством, имеющим свой Центр, соединяющий небо и землю. В мифологии разных народов существует представление о космической оси (столб, лестница, гора, дерево), вокруг которой простирается Мир. Эта ось находится посреди священного пространства. Заметим, что сибирские и угро-финские народности сохранили в незамутненном виде миф о древе – «Столпе неба». «Столп неба» представляет ничто иное, как Ось мира, «Древо жизни», произрастающее в центре мира, из «пупа Земли». Вера в «Столп неба» смешивается порой с верой в космическую гору, которую монголы и калмыки именуют Сумур или Сумер, а буряты – Сумбур.(9, 95). Гора, листвень, церковь, - все это координаты не мирского, а священного пространства Матеры, на котором развивается ритуальное действо прощания.
Об этом свидетельствует и особый ракурс изображения (его можно назвать «вживание»), который соединяет в себе объективный и субъективный планы выражения. Автор помещает себя и читателей как бы внутрь изображаемого пространства, переживает и описывает мир вокруг себя, а не с какой-то отчужденной позиции. Об этом в первую очередь свидетельствует принцип изображения пространства, единый для всей повести: повествователь, главная героиня находятся на острове и видят и осмысляют только окружающее их пространство (гл.1,4,15). Так же описывается новый поселок, по улицам которого идет Павел (гл. 22), а наиболее ярко этот принцип выражается в 6 главе при описании Хозяина. Топографическая точность его пути по Матере сливается с описанием «мироощущения» этого странного зверька.
Таким образом, повествование отражает особое религиозное сознание автора. Употребляя понятие «религиозное» мы связываем его не с божественным, а с сугубо человеческим, духовным началом. С верой человека «…в «святость» своего существования, явленную ему в той или иной форме и дающую силы преодолеть нечеловеческие условия профанной истории»(9,16). Только для человека с религиозным сознанием мир существует в священном времени и пространстве. Только священный мир участвует в бытии, и религиозный человек жаждет бытия, помещая себя в Центр Мира, в пространство, организованное особым образом. Так создается личностный Космос, противостоящий всеобщему Хаосу. Присутствие в священном мире позволяет не только отыскать точку опоры в зыбком Хаосе, но и осознать разрыв между двумя формами человеческого существования - мирским и священным.
В повести Распутина повествование отражает три разновидности сознания: собственно-мифологическое (Хозяин), религиозное (Дарья) и мирское (Павел). Соединение субъективного и объективного, разные варианты «вживания», отраженные в повествовании, свидетельствуют об особенном состоянии авторского сознания, погруженного в священный мир ритуала, нашедшего, таким образом, точку опоры. Эта точка опоры, точнее, - ракурс видения и изображения, позволяют автору полнее и точнее определиться в оценке происходящих на его родине событий, увидеть их в иных масштабах.
Форма замкнуто-разомкнутой организации времени и пространства, найденная автором, позволяет читателю воспринимать события повести как выделенные из ряда обычных, особым образом переорганизованные, несущие в себе законченное выражение главной темы и идеи произведения. Так утверждается мысль о необходимости осознанно-достойного и одухотворенного прощания с матерью-землей, матерью-Матерой, такого прощания, которое проверит и подтвердит в человеке его человечность. Изображение событий дается в двух аспектах, мирском и священном, отражающим два типа мировосприятия, а прощание с островом и деревней воспроизводит ритуал перехода из одной формы существования к другой, из жизни в смерть.
Этапы прощания с Матерой. Композиция повести.
Все события, развивающиеся на Матере, свидетельствуют о выходе человека за грани обычного существования, о напряжении всех его сил и эмоций. О. Арановская, отмечая типологические черты ритуала, пишет: «В то время мир и каждый человек в нем становятся нетождественными себе - обычным. В этом состоянии выхода за условные пределы совершается «контакт миров» - здешнего и потустороннего: обрядовое действо особенно удобно для общения с умершими предками. Происходит интенсивное «вчувствование» и осмысление происходящего. В свою очередь несамотождественность мира характеризует момент его обновления»(10,61). Ритуал прощания изображается в повести как одновременное прощание с островом всех жителей Матеры и индивидуальное прощание Дарьи Пинегиной. Прощание Дарьи исходит из общенародного прощания (и в сюжетном плане, и в композиционном). В этом личном прощании находит окончательное выражение авторское понимание проблемы.
Композиционно тема прощания развивается в три этапа. Выделяемые нами границы развития темы (9-я и 14-я глава включительно) обусловлены началом и завершением интенсивного осмысления происходящего Павлом и Дарьей, в меньшей степени - Андреем. Таким образом, первая часть развития темы прощания (1-8 гл.) может быть названа «началом прощания». Вторая часть развития темы (9-14 гл.) – «коллективным прощанием», третья (15-22 гл.) - «прощанием Дарьи».
Тема коллективного прощания жителей Матеры с землей и деревней начинает звучать с самого начала повести в изображении жизни последнего лета: «Посадили огороды - да не все...», «...посеяли хлеба - да не на всех полях,..» (ВР,1,159). Коллективное осознание проявится и в новом для творчества писателя способе выражения чувств и мыслей персонажей через анонимные реплики и монологи (сцена на кладбище): «- Че с имя разговаривать - порешить их за это тут же. Место самое подходящее. - Чтоб знали, нехристи».
Зачем место поганить? В Ангару их...» (ВР,1,171). Коллективная точка зрения передается в ощущениях людей во время первого пожара:
«Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг в друге надобности. Всегда так, при неприятном, постыдном событии, сколько бы ни было вместе народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один - легче затем освободиться от стыда. В душе им было нехорошо...»(ВР,1,209). Наиболее полно выражается коллективное осознание - прощание в вершинной точке произведения - событиях, связанных с сенокосом.
В народных представлениях о природе июль месяц, называемый «макушкою лета» и «кресником» (от кресь - огонь), был временем торжества всех светлых сил природы. Поэтому сенокос у распутинских героев всегда связан с лучшими воспоминаниями и надеждами (вспомним Настену). И в «Прощании с Матерой» сцена сенокоса - центральная и в композиционном, и в содержательном планах. Во время сенокоса, а особенно - потом, когда зарядит долгий дождь, люди поймут, что это была своеобразная игра. Игра, в которой в полной мере отразилась их потребность в радостном труде и единении, когда бабы молодели на десять лет, зная, что через месяц состарятся на столько же, когда из-за какой-то веселой прихоти работали с помощью лошади, а машину «держали на привязи».
Объединение народа в радостном труде одновременно становится и судом самих себя, судом перед прошлым (в лице старух) и вечным (природой). Писатель прибегает здесь к неперсонифицированному диалогу между вопрошающими старухами - «Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому», - и соглашающимся народом: «Некому» (ВР,1,225). Вместе со старухами о чем-то спрашивало все, что было на острове, что было островом. И на эти вопросы словно бы пытались ответить люди, не думая о прошлом, не боясь будущего, дорожа только чаянным настоящим.
Это состояние и является нетождественностью человека (людей) самому (самим) себе. Повествователь называет это состояние игрой, по форме выражения – это ритуальное действо, ибо в попытках жителей Матеры, как и Дарьи, ответить на главный вопрос - почему именно при их жизни уходит под воду остров? – происходит их духовное развитие и обновление, свойственное ритуальному действию. Перед разгадкой этого вопроса ставит писатель своих героев, и они, пытаясь открыть эту тайну, познают себя, ею проверяются. Прямого решения этого вопроса автор не дает, но отвечает вполне определенно и изображением жизнедостойности Матеры, и, что самое важное, осознанием красоты жизни, произошедшим во время и после сенокоса. Именно в прощании с родной Матерой во время любимого всеми труда приходит к людям ощущение радости и красоты как высшей ценности жизни. Красоты, которая «спасает мир». «Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после работы, когда уже будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе,...это сладкое и тревожное обмирание по вечерам перед красотой и жутью подступающей ночи... эта неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперяшней минуты, не знал, что ты - не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, - вот это все запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью» (ВР,1,237-238).
Красота является одной из ипостасей высших духовных ценностей человека. Вместе с истиной - правильным знанием, соответствием понятия предмету - и добром, красота является составляющей этического идеала человека. При этом речь идет не столько о внешней красоте, сколько о красоте внутренней. О том прекрасном, чем светятся осознание своей любви к родине, народу, ощущение своей причастности к общей жизни.
Результатом осознания красоты бытия становится катарсис. Как доказала, катарсис является единой функцией трагедии и ритуала. Архетип понятия «катарсис» во всех его аспектах - есть выделение наружу чего-то скрытого. Это окончательное исчерпание потенциального фактора, объективация негативных процессов и освобождение от них. Ритуальное действо вплоть до античности, до перехода ритуала в трагедию, содержало в себе «священное нарушение», «очистительный суд» и избежание скверны путем перенесения ее на другой объект(10,67).
Все этапы ритуального действа обнаруживаются в линии развития темы прощания: жители Матеры готовятся оставить священную родную землю, совершают над собой «очистительный суд» во время сенокоса, Дарья берет на себя вину за себя и всех, при чьей жизни уходит под воду остров и деревня Матера.
Система персонажей в повести.
Как уже отмечалось, в изображении процесса прощания, реализованного в архетипе ритуального действа, многие образы (персонажей, природы, интерьера) автоматически приобретают мифологические черты, то есть, становятся материальным выражением идеи произведения. Писатель создает мир Матеры. Это ясный и прочный, основанный на незыблемости представлений о вечности земли, неба, солнца, любовном и хозяйском отношении к природе мир. Этот мир создается через двойное воплощение идеи прощания, материализуемой в жизнеподобных и условных образах (остров Матера - Атлантида, дерево - древо жизни Листвень, неведомый зверек - Хозяин острова). Но смысл образов как бы «перетекает» из одного в другое: жизнеподобный образ приобретает свойство символа, значение его находится на грани между реальным и символическим. Дарья идентифицируется с Лиственем, Богодул - с Хозяином. Распутин соединяет в образной системе повести представления о двух параллельно существующих способах восприятия и оценки: мирском и священном.
Образ Дарьи неразрывно связан с образом самой Матеры - деревни и острова, доживающим последний срок. И осмысление Дарьей своей жизни и нынешнего своего положения связано с трудной думой о Матере. Как Матера отделена от земли «течью воды и течью времени», так и Дарья отделена от всех жителей острова и деревни своей старостью. Распутин всегда выделяет ее среди других: «Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила увереннее и серьезней»(ВР,1,206), за столом с подругами она сидит «на председательском месте»; на Матеру чаще всего смотрит с холма - «макушки острова», а на пожогщика, вошедшего в избу, - с высоты стола и говорит «суровым судным голосом» (ВР,1,290).
Потребность осмысления жизни существовала в Дарье, как человеке религиозном и духовном, всегда, но исключительность ситуации затопления родных мест заставляет размышлять о жизни и своем месте в ней более обостренно. Дарья чувствует нетождественность самой себе, ее представления о жизни еще и еще раз проверяются в наблюдениях за происходящим, диалогах с собой и подругами, поступках. Героиня связывает свое непонимание происходящего с тем, что свой век она уже отжила и ни к чему искать «какую-то особую правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом...»(ВР,1,186). Жестокая в своей завершенности мысль еще более углубляется в разговоре с Катериной, когда Дарья винит себя в том, что «привычку к себе держит», другими словами, любит себя, тогда как главное в жизни - дело сделать. Эти «последние» вопросы-размышления, задаваемые с такой безоглядной отвагой и силой, связаны и с растерянным непониманием - «Так ли? Так ли?» Пройдя через двойное осмысление героиней, эти мысли о жизни - службе и любви к себе завершаются в диалоге Дарьи с Клавкой Стригуновой. На Клавкино прямолинейное: «Бабке твоей себя жалко. … боится туда, где живым пахнет», Дарья отвечает: «Я, девка, и об етим думала... Ну ладно, думаю, пущай я такая… А вы-то какие?... Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит - кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей....нам Матеру на подержанье только дали... чтоб обихаживали мы ее и с пользой от ее кормились...»(ВР,1,241). Так идея личного служения связывается с общечеловеческим служением и ответственностью перед жизнью.
С мотивом служения диалогично связан мотив памяти. Развивается он в обратной предшествующему последовательности: от общечеловеческого к личному пониманию и утверждению. В 13 главе дается подробное описание труда жителей Матеры, говорится об их общении с природой. От пафосного утверждения необходимости эмоциональной памяти автор приводит свою героиню к сомнению: «Неужели и о Матере люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге?»(ВР,1,259). И все же додумать до конца эту мысль она не может, «...для чего-то полного и понятного не хватало связи». В казалось бы, окончательно оформившемся варианте осмысления - «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни», все-таки существует обратная сторона: «Но она понимала: это не вся правда...» (ВР,1,283).
Для того, чтобы получить полную правду о человеческой жизни, по мысли Распутина, необходимо прожить ее до конца, не отказываясь ни от чего в ней. Дарья понимает, что только изживание своей жизни до последнего дня, переход в инобытие, в смерть, могут открыть полную правду о земной жизни.
И, пожалуй, главным мотивом, развивающимся в связи с образом Дарьи, становится мотив последнего срока. Как уже отмечалось, осознание конечности жизни Матеры - характерологическая черта времени всей повести, «последний срок» предчувствуется постоянно. «Всплывает» же на поверхность - трижды: объявляется на собрании, о жизненном сроке говорят Дарья и Андрей, и, наконец, он наступает: Павел едет за матерью в ночь на 20 сентября . Подготавливается этот мотив размышлениями Дарьи о жизни-службе, ее пониманием, что срока своей смерти человеку знать не дано. Глубинный смысл мотива последнего срока связан с индивидуальным прощанием героини.
Личное прощание Дарьи с Матерой проходит те же самые вехи, что и коллективное, но в обратном порядке. Сразу после завершения колхозного сенокоса Дарья прощается со своим покосом, потом вместе с Катериной - с мельницей (параллель – прощание жителей деревни с горящей избой Катерины), наконец, совершает прощальный обряд своей избы (параллель – прощание старух с избой Настасьи). События как будто возвращаются на тот же самый круг, но в другом, новом качестве.
Если представить повторяющиеся события прощания сначала коллективного, а затем Дарьи, в виде спирали, диалектически сочетающей направленность и качество переживаемого витка времени, то получится противоположная картина. Коллективное прощание включает в себя многие события. Это прощание Настасьи с избой, в котором участвовали все близкие подруги. Потом - прощание всех жителей деревни с подожженным Петрухой домом, наконец, прощание всего народа с островом и жизнью на нем во время сенокоса. Круги воображаемой спирали расширяются, свидетельствуя о все большем числе людей, переживающих прощание с родиной, уносящих в своих душах память о счастье и красоте родной земли.
События личностного прощания Дарьи все дальше отделяют ее от людей, воображаемая спираль развивается в обратном, сужающемся, направлении. Дарья ощущает конец жизни острова как свою вину перед всем родом, жизнь которого оказывается перерубленной. «Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей – там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды – все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, - все с угрюмыми, строгими, вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать нечего. ….Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего.»(ВР,1,282)
Общение с потусторонним миром – кульминационный момент ритуального действа, который наглядно подтверждает одновременное существование мира священного и мирского, доказывает незыблемость для религиозного сознания утверждения: «как наверху, так и внизу». Дарья «слышит» ответ мертвых и по их наказу провожает родную для всех живущих в ней и ушедших из нее избу в соответствии с обрядом проводов покойника. Дарья в это время находится в особом мире - священном и вечном.
С точки зрения мирского понимания жизни, обращение к умершим родителям психологически объяснимо: Дарье нужен авторитетный собеседник, а среди окружающих людей нет равных ей по уровню сознания и обостренности восприятия. К тому же она «самая старинная старуха». И Распутин настойчиво сосредоточивает внимание на таких чертах характера героини, которые свидетельствуют об исчерпанности жизни этого человека. Она задает себе «последние» вопросы, и в поисках ответа понимает, что при жизни на них не найти ответа. Дарья – человек «завершенный», «закрытый»; человек, который как личность уже есть, уже состоялся. Она не может переродиться, обновиться, пережить метаморфозу, - это ее завершающая (последняя и окончательная) стадия.(11,137) Автор показывает человека, замкнувшегося в себе, в пределах собственного «я», принимающего эту замкнутость и отвергающего мысли о дальнейшем развитии своей земной жизни. Дарья не принимает новой жизни вне острова. Она вся в настоящем и прошлом, но не в будущем, вся - с ушедшими из жизни предками, но не с живущими.
Это понимает и сама героиня. До начала индивидуального прощания Дарья и в мыслях, и вслух осуждала окружающих ее людей, время; в пятнадцатой главе она впервые задумывается: «Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отстранилась я от них, пора убираться...» (ВР,1,260). Мысли о своей вине приходят к героине и во время разговора с подругами, когда она удивляется их мечтам о будущей жизни и размышляет о значении в жизни человека положения, места, которое он занимает. Так Дарья приходит к пониманию цели и средства жизненного движения - надежды на лучшее будущее, освещающей человеку путь вперед. Без этого луча надежды нет веры в лучшее будущее. А отсутствие ее свидетельствует о тупике, в котором оказалась героиня. Но силу ее духа питает личная, не перелагаемая на других, ответственность перед прошлым и настоящим, а значит - перед будущим. В том, как Дарья «обряжает» избу, не только воздаяние последнего, что в ее силах, родному дому, деревне, острову, но и убежденность, что только так, а не иначе должен проститься человек с уходящей в прошлое жизнью. Так: достойно и стойко, свято и просто. И трагическое завершение прощания Дарьи оставляет луч надежды, вселяет в читателя веру в моральные ценности, в необходимость человеческой жизнестойкости и жизнедостойности.
Очистительный обряд избы Дарьей, как и коллективный обряд прощания, приводит к состоянию катарсиса, позволяющего осознать не только трагедию происходящего с людьми и островом, но и особенную надындивидуальную связь человека с миром, отраженную в чувстве личной причастности героини ко всему, что происходит в жизни. Через изображение чувств личной причастности и ответственности Распутин утверждает необходимость прочности родовой связи личности с миром священного, связи, отложившейся в глубинах психики человека, в строе его чувств, мышления, национального сознания.
В повести есть еще один образ, столь же стойко исполняющий свой долг по отношению к Матере. Это Царский Листвень, корнями которого, по старинному преданию, крепилась к речному дну, к одной общей земле, Матера. Царский Листвень - распутинское «древо жизни». Его видит Дарья с «макушки острова» - сухого травянистого угора, когда размышляет о своей жизни. Его же, одиноко стоящего среди выгоревшей Матеры, видит она в минуты последнего посещения кладбища, к нему приходит после совершения обряда своей избы..
Автор сближает образы героини и Лиственя не только внешне. Описание «обряжения» избы сопрягается с описанием «битвы» пожогщиков с Лиственем. Параллель начинается с изображения вечера, когда Дарья пришла на кладбище для последнего прощания и «услышала» наказ предков, в это же время пожогщики впервые попытались спилить дерево. «Обряжение» избы и «битва» с Лиственем продолжаются два дня. Эта параллель особенно значима в повести, поскольку является одним из двух (о втором - ниже) нарушений общего принципа изображения времени и пространства - принципа «хронологической несовместимости», означающего несовместимость нескольких действий одновременно в разных местах (12, 68). При наличии множества диалогически перекликающихся мотивов во всей повести всего лишь две хронологические параллели. И это позволяет утверждать не случайность авторского сближения образов.
«Древо жизни» Распутина отличается от мифологического. И прежде всего тем, что этот крепкий, надежный, словно железный, Листвень, «не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою» и был без верхушки, без движения вверх, хотя и «не потерял своего могучего величавого вида». Мифологическое же древо жизни (у славян - дуб, у скандинавов - ясень и др.) - вечно живое, плодоносящее и благоухающее ароматом цветов и пчелиного меда. Как видим, описание Лиственя и Дарьи - самой старой из старух - во многом совпадает: они оба – центр мира Матеры, оба они сильны прошлыми накоплениями. Через образ Царского Лиственя еще раз подтверждается распутинский тезис о сокровенности и незыблемости прошлого в настоящем, о правде, которая в «памяти».
Наряду с параллелью Дарья - Листвень в повести присутствует еще два двойника: Богодул и Хозяин. Богодул - личность со своим характером, взглядами на жизнь. Он приносит старухам вести о творящихся на острове изменениях, «охраняет себя и старух от «чужих», приютил старух в их последнюю ночь на острове. Казалось бы, на этом заканчиваются функции образа, но, как и для старух, для автора важно его присутствие, его внешность, реакция на окружающее. Богодул воспринимается старухами и характеризуется повествователем как глубокий старик. Здесь очевидна авторская установка на изображение вневременного образа, человека, сопутствующего жизни многих поколений людей, всегда нужного им (вспомним «профессию» Богодула). Вот как описывается его внешность: «был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, на-валистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову... Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком... (ВР,1,175). А это - поэтическое описание представлений славян о домовом: «...домовой любит принимать разные виды, но обыкновенно он является плотным, не очень рослым стариком, в коротком смурном зипуне или синем кафтане,... у него седая порядочная борода; волосы острижены в скобу, но косматы и застилают лицо; голос суровый и глухой, он любит браниться и употребляет при этом выражения чисто народные.... Как настоящий хозяин, именем которого чтят его в народе, домовой присматривает за всем в доме, сочувствует и семейной радости, и семейному горю»(13,59,60,62). Нет нужды дословно сопоставлять процитированные описания, очевидно сходство Богодула и домового, проявляемое не столько в деталях, сколько в главном. Сходство образов означает степень проникновения писателя в народно-поэтическое сознание, для которого представления о мире священного незыблемы.
Но автору недостаточно воплощения мысли о хозяйском отношении к жизни, включающем в себя знание прошлого, настоящего и будущего, в образе человека по имени Богодул. Для усиления этой мысли в повесть вводится образ зверька неизвестной породы, его имя, Хозяин, говорит о главной функции в повести. Хозяин - существо вневременное, вечное, неосязаемый «дух» Матеры, зооморфное воплощение вечного служения и памяти. Внешне в тексте повести образы Богодула и Хозяина сближаются, пожалуй, лишь только тем, что свой обход по деревне зверек всегда начиная от барака Богодула, и предчувствием Хозяина скорой, как и его самого, кончины Богодула. Идентичность функций этих образов - охраны острова и старух, службы острову и жителям деревни, наконец, предвидение одновременной кончины, - указывают на их внутренние смысловые связи. Связь эта - ассоциативная.(14,66). Образы, включенные в архетипический сюжет, несут на себе свойства архетипической основы: внешний вид Богодула связывается с мыслью о вечности этого человека - он не менялся, «будто бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений»(ВР,1,175). Зверек - Хозяин тоже принимает идею вечной жизни, он считает, что никому мечтать не дано, а то, что люди считают мечтами, является только воспоминаниями. И Дарья в своих обращениях к ушедшим из жизни исходит из представлений о связи двух миров.
Автор сближает образы Дарьи, Богодула и Хозяина не только на основе общих представлений, но и на основе их действий: все они остаются на Матере, не могут оставить ее. Смысл финала произведения отражает наличие в повести двойного ракурса изображения, связанного с мирским и священным типами мировосприятия. Сама структура ритуального действа становится носителем содержания, канон в его непреложности диктует развитие сюжета повести. Дарья, Хозяин, Богодул остаются на Матере по своей воле до самого «последнего срока». И они не умирают, а переходят в иное измерение, приобщаются к вечности. Финал трактуется В. Распутиным как «вознесение»(15,12). Таким образом, завершение ритуального действа и мифологической повести сходятся в единой трактовке смерти как переходе в иную форму бытия, связи живых и мертвых. Образы Дарьи, Богодула, Хозяина, Лиственя соединяются с единым представлением об исполненном долге перед вечной жизнью, о деле, которое вершит Дарья, о пользе, которую она стремится принести своим уходом живым и мертвым. Ритуал прощания завершается жертвоприношением.
Определение понятий (Пространство, Время, Хронотоп, Архитектоника)
Ни одно художественное произведение не существует в пространственно-временном вакууме. В нем всегда так или иначе присутствуют время и пространство.
Художественное время - форма бытия эстетической действительности, особый способ познания мира.
Основные признаки времени в литературном произведении:
- 1. Большая конкретность, непосредственная достоверность.
- 2. Стремление писателя к сближению художественного и реального времени.
- 3. Представления о движении и неподвижности.
- 4. Соотнесенность прошлого, настоящего и будущего.
А.А. Потебня, подчеркивая, что искусство слова динамично, показал безграничные возможности организации художественного времени в тексте. Текст рассматривался им как диалектическое единство двух композиционно-речевых форм: описания («изображение черт, одновременно существующих в пространстве») и повествования («Повествование превращает ряд одновременных признаков в ряд последовательных восприятий, в изображение движения взора и мысли от предмета к предмету»). А.А. Потебня разграничил время реальное и время художественное; рассмотрев соотношение этих категорий в произведениях фольклора, он отметил историческую изменчивость художественного времени.
Время в художественном произведении -- длительность, последовательность и соотнесенность его событий, основанные на их причинно-следственной, линейной или ассоциативной связи.
Время в тексте имеет четко определенные или достаточно размытые границы (события, например, могут охватить десятки лет, год, несколько дней, день, час и т.п.), которые могут обозначаться или, напротив, не обозначаться в произведении по отношению к историческому времени или времени, устанавливаемому автором условно (см., например, роман Е. Замятина «Мы»).
Образы художественного времени:
Биографическое время (детство, юность, зрелость, старость)
Историческое время (характеристика смены эпох, поколений, крупных событий в жизни общества)
Космическое (представление о вечности и вселенской истории)
Календарное (Смена времен года, будней и праздников)
Суточное (день, ночь, утро, вечер)
В литературном произведении участвуют три субъекта - автор-творец, герой, читатель-реципиент, поэтому время и текст следует мыслить в следующей взаимной связи друг с другом: реальное время создания (эпоха, дата, непосредственно длительность процесса), время функционирования произведения искусства слова как материального объекта среди других объектов реальной действительности (книга, рукопись, выдолбленная на камне надпись, берестяная грамота и под.), время его восприятия (Б.В.Томашевский-время повествования) читателем (Ю.М.Лотман-расшифровка семиотических кодов, текст как “смысловой генератор”)
Художественное время в тексте выступает как диалектическое единство конечного и бесконечного. В бесконечном потоке времени выделяется одно событие или их цепь, начало и конец их обычно фиксируются. Финал же произведения -- сигнал того, что временной отрезок, представленный читателю, завершился, но время длится и за его пределами. Преобразуется в художественном тексте и такое свойство произведений реального времени, как упорядоченность. Это может быть связано с субъективным определением точки отсчета или меры времени
Художественное время опирается на определенную систему языковых средств. Это прежде всего система видовременных форм глагола, их последовательность и противопоставления, транспозиция (переносное употребление) форм времени, лексические единицы с темпоральной семантикой, падежные формы со значением времени, хронологические пометы, синтаксические конструкции, которые создают определенный временной план (например, номинативные предложения представляют в тексте план настоящего), имена исторических деятелей, мифологических героев, номинации исторических событий.
Анализ художественного времени включает следующие основные моменты:
- 1) определение особенностей художественного времени в рассматриваемом произведении:
- -- одномерность или многомерность;
- -- обратимость или необратимость;
- -- линейность или нарушение временной последовательности;
- 2) выделение в темпоральной структуре текста временных планов (плоскостей), представленных в произведении, и рассмотрение их взаимодействия;
- 3) определение соотношения авторского времени (времени повествователя) и субъективного времени персонажей;
- 4) выявление сигналов, выделяющих эти формы времени;
- 5) рассмотрение всей системы временных показателей в тексте, выявление не только их прямых, но и переносных значений;
- 6) определение соотношения времени исторического и бытового, биографического и исторического;
- 7) установление связи художественного времени и пространства.
Художественный текст также пространствен, то есть элементы текста обладают определенной пространственной конфигурацией.
В своем произведении писатель создает определенное пространство, в котором происходит действие. Это пространство может быть большим, охватывать ряд стран (в романе путешествий) или даже выходить за пределы земной планеты (в романах фантастических и принадлежащих к романтическому направлению), но оно может также сужаться до тесных границ одной комнаты. Пространство, создаваемое автором в его произведении, может обладать своеобразными «географическими» свойствами; быть реальным (как в летописи или историческом романе) или воображаемым (как в сказке).
Оно может обладать теми или иными свойствами, так или иначе «организовывать» действие произведения. Последнее свойство художественного пространства особенно важно для литературы и фольклора. Дело в том, что пространство в словесном искусстве непосредственно связано с художественным временем. Оно динамично. Оно создает среду для движения, и оно само меняется, движется. Это движение (в движении соединяется пространство и время)" может быть легким или трудным, быстрым или медленным, оно может быть связано с известным сопротивлением среды и с причинно-следственными отношениями.
Основные признаки пространства в литературном произведении:
- 1. Не имеет непосредственной чувственной достоверности, материальной плотности, наглядности.
- 2. Воспринимается читателем ассоциативно.
Пространство (конкретное/условное; сжатое/объемное; замкнутое/открытое; земное/космическое; реально видимое/воображаемое)
Выделяют следующие виды художественного пространства: абстрактное (всеобщее, всемирное -- пьесы Шекспира) и конкретное (с указанием конкретных географических, топографических реалий -- «Горе от ума» А.С. Грибоедова); закрытое (дом -- дом Турбиных в романе «Белая гвардия» М. Булгакова), открытое (степь в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»), пограничное (образы «порога», «окна», «двери» -- в произведениях устного народного творчества) ; природно-географическое (описание естественноприродных географических реалий -- пустыни, моря, гор -- поэма «Мцыри» М.Ю. Лермонтова) и пространство цивилизации (описание города, деревни и т.д. -- Петербург в романах Ф.М. Достоевского); пространство психологическое (замкнутое, ограниченное рамками внутреннего мира героя -- психологическое пространство Свидригайлова в романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского), социальное пространство (участие героя в событиях общественной жизни -- социальное пространство Павла Власова в романе М. Горького «Мать»); фантастическое (сны героев, волшебный мир, созданный автором -- «Приключения Гулливера» Д. Свифта).
Художественное пространство неразрывно связано с художественным временем.
Взаимосвязь времени и пространства в художественном тексте выражается в следующих основных аспектах:
- 1) две одновременные ситуации изображаются в произведении как пространственно раздвинутые, соположенные (см., например, «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого, «Белую гвардию» М. Булгакова);
- 2) пространственная точка зрения наблюдателя (персонажа или Iповествователя) является одновременно и его временной точкой зрения, при этом оптическая точка зрения может быть как статичной, так и подвижной (динамичной): ...Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму -- и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая и бесконечную даль... (И.А. Бунин. Суходол);
- 3) временному смещению соответствует обычно пространственное смещение (так, переход к настоящему повествователя в «Жизни Арсеньева» И.А. Бунина сопровождается резким смещением пространственной позиции: Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна... И вот, Франция, Юг, средиземные зимние дни. Мы... уже давно в чужой стране);
- 4) убыстрение времени сопровождается сжатием пространства (см., например, романы Ф.М. Достоевского);
- 5) напротив, замедление времени может сопровождаться расширением пространства, отсюда, например, детальные описания пространственных координат, места действия, интерьера и пр.;
- 6) течение времени передается посредством изменения пространственных характеристик: «Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем». Так, в повести А.М. Горького «Детство», в тексте которой почти отсутствуют конкретные темпоральные показатели (даты, точный отсчет времени, приметы исторического времени), движение времени отражается в пространственном перемещении героя, вехами его служат переезд из Астрахани в Нижний, а затем переезды из одного дома в другой, ср.: К весне дядья разделились... а дед купил себе большой интересный дом на Полевой; Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице;
- 7) одни и те же речевые средства могут выражать и временные, и пространственные характеристики, см., например: ...обещались писать, никогда не писали, все оборвалось навсегда, началась Россия, ссылки, вода к утру замерзала в ведре, дети росли здоровые, пароход по Енисею бежал ярким июньским днем, и потом был Питер, квартира на Лиговке, толпы людей во дворе Таврического, потом фронт был три года, вагоны, митинги, пайки хлеба, Москва, «Альпийская Коза», потом Гнездниковский, голод, театры, работа в книжной экспедиции... (Ю.Трифонов. Был летний полдень).
Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе определяет термин Михаила Михайловича Бахтина - Хронотоп.
Хронотоп -- это культурно обработанная устойчивая позиция, из которой или сквозь которую человек осваивает пространство топографически объемного мира, у М. М Бахтина -- художественного пространства произведения. Введенное М. М. Бахтиным понятие хронотопа соединяет воедино пространство и время, что дает неожиданный поворот теме художественного пространства и раскрывает широкое поле для дальнейших исследований.
Сам термин архитектоника признается не всеми специалистами, многие, если не большинство, считают, что речь идет просто о разных гранях значения термина композиция. В то же время некоторые весьма авторитетные ученые (скажем, М. М. Бахтин) не только признавали корректность такого термина, но и настаивали на том, что композиция и архитектоника имеют разные значения.
Понятие архитектоники объединяет в себе соотношение частей произведения, расположение и взаимную связь его компонентов (слагаемых), образующих вместе некоторое художественное единство. В понятие архитектоники входит как внешняя структура произведения, так и построение сюжета: деление произведения на части, тип рассказывания (от автора или от лица особого рассказчика), роль диалога, та или иная последовательность событий (временная или с нарушением хронологического принципа), введение в повествовательную ткань различных описаний, авторских рассуждений и лирических отступлений, группировка действующих лиц и т. п.
пространственный временной архитектоника повесть
Работа над повестью В. Распутина “Прощание с Матерой” в одиннадцатом классе - часть процесса рассмотрения темы “Человек и природа, человек и мир, его окружающий, в русской литературе 70-90 годов”, попытка осмыслить и оценить литературную контекстовую ситуацию в конкретном произведении, возможность определить “личную”, читательскую, точку зрения на произведение и по возможности сравнить ее с общепринятой в современной литературной критике или с какой-либо индивидуально существующей. Главная задача, которая ставится перед учащимися, - проникнуться авторской идеей воскрешения мира в душе человека, понять абсолютную значимость авторского слова, внимательное отношение к которому окажется ключом к разного рода “открытиям” читателя, увидеть мотивное многообразие произведения и проследить связь между мотивами и их развитие. Методическое решение, связанное с успешным изучением повести, основано на предоставление постепенной абсолютной самостоятельности учащихся. Видится чрезвычайно важным именно самостоятельное открытие учащимися всех “загадок” произведения. Аналитическое прочтение и комментирование происходит в несколько этапов: учитель предлагает учащимся вопросы по тексту произведения и дает им свои вариантов ответов, выслушивая по возможности ответы ребят.
- Учитель предлагает вопросы по тексту, ученики самостоятельно анализируют, комментируют текст, формулируя ответы.
- Учащиеся самостоятельно составляют текстовые вопросы и отвечают на них, обмениваясь вопросами и мнениями.
- Учащиеся абсолютно самостоятельно предлагают варианты обобщающих наблюдений над текстом.
Учащиеся пытаются провести сравнительное ученическое исследование общепринятой точки зрения с собственной, рассматривая публикации, монографии. Структура данного комментария (вопрос – предполагаемый вариант ответа) дает возможность свободной интерпретации текста на основе работы со словом – ключом. Работа на уроке может быть организована удобным для учителя способом (урок-беседа, урок-лекция), хотя лучший вариант – самостоятельное комментирование учащихся.
Цель данной работы – продемонстрировать опыт наблюдений над текстом.
Данная работа также может быть использована учащимися для самостоятельного изучения повести Распутина.
1 глава.
Для автора Матера – средоточие естественной, гармоничной природной жизни. Совершенно не случайно повесть открывается пейзажным описанием. Мир Матеры – неброский, в нем все обычно – “зашумела вода, запылала зелень, пролились первые дожди, заквакали лягушки”, но ценность его именно в этой простоте и обычности. Обратим внимание на неоднократное повторение слова “опять” в пейзаже, кажется, что мир гармонии будет существовать всегда, но постепенно появляется ощущение трагичности и неустойчивости жизни в Матере (“все посадили огороды - да не все, посеяли хлеба – да не на всех полях, “ и, наконец, “многие жили на два дома…та Матера – да не та” – как некий вывод. Почему изменилась Матера, мы понимаем позже. Автор коннотативно отрицает надвигающиеся перемены, так как эти перемены не просто изменяют мир Матеры, а разрушают его. “Не та Матера”, потому что “повяла деревня, повяла, как подрубленное дерево…” Подчеркивается безжизненность изменяющейся Матёры (“мёртво застыли окна, гуще и нахальней полезла крапива”. В деревне новый хозяин – нечистая сила, которая определяет ход наступающей жизни, открывает и закрывает ворота, чтобы сильнее сквозило, скрипело и хлопало. Этот мотив нечистой силы будет еще занимать наше внимание.
Трагичность мира Матёры тем сильнее ощущается, что люди покинули деревню, хозяева этого мира стали косвенными виновниками разрушения – “во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено”. Раздвоенная жизнь, ополовиненная жизнь на два дома – это плата жителей деревни, трагическая плата за некое предательство, уход.
Проанализируйте свои наблюдения, размышляя над проявляющимися оппозициями вода, – земля, новое – старое, слабое – сильное. В первой главе повести мы узнаем историю жизни Матёры, краткую, но всё же историю. Матёра как бы обладает всем тем, что дает ей право называться местом жизни (текст стр. 4). Некая изолированность Матёры от другого, большого, мира оберегает ее от бед и страстей. Матёра - остров, “на яру”. Матёра всегда была рядом с водой, вода была необходимой частью непрекращающейся жизни (“провожая годы, как воду, на которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились”). Но вот “грянул слух, что вода разольется и затопит Матёру”, потому что люди будут строить плотину. И именно тогда для жителей становится совершенно ясно, что “триста годов” Матёры, её обособленность, непрекращающаяся жизнь на ней – все это может быть разрушено и ничто перед наступающей бедой (“край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок”). Наступает последнее время перед исчезновением, “последнее лето”. Вода, которая раньше была силой помогающей, превратится в силу разрушающую. Земля и вода станут противоборствующими силами.
Идиллическое “последнее время” Матёры – каковы нарушители этого праздника уходящей жизни? Последнее лето Матёры как будто последний подарок мира, благодать, сошедшая с небес (“такая благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла пред глазами зелень”). Матёра красуется перед людьми – она жива, она есть, но это лишь последний ее подарок людям. Оставшиеся на Матёре старухи – самые верные жители деревни, им некуда больше идти, потому что Матёра их дом, Дом, а потом и пришлая Сима со своим внучонком Колькой – “своя” на Матёре, так как Матёра её дом. Старые люди не могут уйти с Матёры не потому, что они брошены (хотя Симе и Кольке некуда идти), а потому что ничто не заменит им этот мир, эту жизнь, которую нельзя прожить дважды. Их заслуги перед миром и людьми оказались не в счет. Нельзя пересадить старое дерево, как нельзя прожить жизнь дважды. Там, в этой чужой жизни нет места тому, что очень было важно в деревенской (“Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь”). Таким образом, оппозиция живое – неживое оказывается синонимичной прошлое - настоящее .
2-3 главы.
Как приходят чужие на остров? Почему они “чужаки, черти”?
Весть о приходе на Матёру чужих приносит Богодул (“Мёртвых грабют”), он же называет их чертями. Они носители чужой, нечистой силы. Мотив нечистой силы оказывается противопоставленным мотиву святости, которая так или иначе проявляется в словах, поступках, действиях последних обитателей Матёры. “Чужие” появляются на кладбище как разорители. И вправду, только черти могли покуситься на самое святое место на Матёре, место памяти. Интересным является эпизод появления чужих, их внешности, поступков, способов высказывания.
В чем суть конфликта старух с “чертями”? Как они именуют друг друга и почему?
Чужие приходят на Матёру, чтобы начать её уничтожение, их начинание кощунственно - они жгут кладбище, потому Богудул их и называет черти. И для Дарьи они “нечистая сила” (“Для вас святого места на земле не осталось? Ироды!”) “Нехристи!”- скажет о них одна из старух. Чужие для них из мира, где нет места совести, чистоте. Они несут зло, потому что для старух они – черти, аспиды, а их место обитания “сам – аспид – стансыя”. Для старух кладбище - место успокоения близких им людей, для чужих просто – часть суши.
Колоритна, эмоциональна речь защитников Матёры – официальна и невыразительна речь чужаков. Для них старики и старухи “граждане затопляемые”. Об этом безразличном тоне мы вспомним, когда увидим ещё одного чужака, начальника, приехавшего на Матёру уговаривать стариков и старух переселиться. У этого начальника даже фамилия будет соответствующая – Воронцов. Где им, этим чужакам, понять матёринцев. Чужаки и не пытаются понять, что они здесь, на Матёре, натворили. Они все делают “по распоряжению”. Потому так клеймит их Дарья, этих людей без роду и племени, с одинаковыми ржавыми глазами, в одинаковых зеленых куртках (“Ты не человек! У какого человека духу хватит! Не было у тебя поганца отца с матерью!”)
Для них, чужих, странным кажется поведение матёринцев, потому что Матёра для них – “ложе для водохранилища, территория, зона затопления”, а матёринцы для них “граждане затопляемые”, а для матёринцев их остров – живое место, Дом. Вера Носарёва скажет: “Мы живые люди, пока здесь живём”. Они живут на Матёре, а чужие – пришлые, потому и назовет их Егор “туристами”, людьми без корней (“А я родился на Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И меня не зори. Дай дожить без позору”). Чужие - “туристы”, матёринцы – хозяева, вот и разница, вот и барьер, который нельзя преодолеть. Для Егора – позор не сохранить свой дом, предать память отцов, престать быть хозяином, а чужие лишены и дома, и памяти, и совести.
4 глава.
История Богодула. Её значение в повести. “Свой” или “чужой” Богодул?
Богодул стал частью мира Матёры, потому что выбрал её своим домом. Он много лет был чужаком, но однажды выбрал Матёру для жизни постоянной. Для Богодула вся Матёра - Дом, и он его охраняет. Вспомним, что Богодул первым встал на защиту острова от чужаков.
Богодул – воплощение вечной мудрости, постоянства на Матёре (“Много лет знали Богодула как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь всё в том же виде, в каком показался впервые, будто бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений”).
Почему Дарье так тяжело думать о своей вине перед предками?
Дарья боится спроса. Ведь она хранительница родовых обычаев, она родовой человек. Для неё трагедия Матёры – трагедия Дома. Потому Дарье не понятна суета молодых (“Запыхались, уж запинаются…будто кто гонится”). Они не видят ценности настоящего и прошлого, но, самое главное, что это – дети матёринцев, они оторвались от Матёры, и разрушается родовая связь, которая для Дарьи так важна. Дарья чувствует, что “нонче свет пополам переломился”, а её дети - нет. В этом трагедия рушащейся жизни Матёры.
Почему прошлое так ценно для Дарьи?
Тогда были “все свои”, а “с Матёрой кажный был породниться рад”. Никогда ничего не боялась Дарья, а теперь страх вошёл в её жизнь, и она не может от него избавиться. Тогда жили по совести, а сейчас? Дарья не может приспособиться к законам другого времени. Но она обладает панорамным зрением, она видит Матёру во всех временных измерениях, а потому делает правильный выбор.
Видит Дарья свою Матёру, видит землёй раздольной, богатой, видит силу её и значимость (“ Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и красоты, и дикости”).
Что о новой жизни узнает читатель? Всё ли там так, “как надо”? Сравните с жизнью Матёра до затопления?
Жилища “бывших матёринцев” причудливы для них, привыкших к простоте и обыкновенности. В их новых домах нет души – “ и так для всех без исключения”. Их квартиры – это “жилье”, а не дома, как говорит автор. Всё есть в этих квартирах - обои в цветочках – лепесточках, лестница мудрёная, плита электрическая, но … только всё там не для жизни, а для неудобства: временность жизни - такоё же жильё. “Что же дальше?”- такой вопрос задают себе люди. Как жить на земле, которая не родит хлеба, не приносит радости людям? Как жить на чужой земле? Ушла ясность бытия – возник вопрос: “Как жить?”. И решить его не смогут даже Воронцовы, Жуки и другие официальные лица. Оказалось, что “отучить землю” от одного и “приучить к другому” – невозможно. И уже сейчас становится понятной абсурдность дикой затеи официальных лиц. Нельзя изменить мир природы и человека, не уничтожая, не изменяя основ этого мира. Трагедия человека и мира – это лишь часть общей глобальной трагедии Земли. Этот библейский обширный, всеохватывающий взгляд Дарьи абсолютно справедлив, потому что она сама жила всегда по закону совести, завещанному ей родителями. Потому самый страшный грех для Дарьи – грех бесполезности. Неоднозначное понимание грех героями повести (или непонимание вообще) даёт нам возможность убедиться в пристрастиях и антипатиях автора.
5 глава.
Как устроился Павел в “новой жизни”? Удовлетворен ли он ею?
Павел, сын Дарьи, среди тех, кто оставил Матёру, казалось бы, должен быть доволен переселением: дом в посёлке, удобства. Но оказывается, что жить в доме, который построил чужой дядя, как в своём, Павел не может. Потому состояние “незнания”, сомнения свойственно Павлу. Он не предал Матера, но и защитить её не смог. Он просто безропотно принял удар судьбы, “переломившаяся жизнь” - это и его жизнь, потому что для него Матёра – это тоже Дом, и закон родовой совести – это его закон.
Как молодые воспринимают трагедию Матёры? Что для них “жизнь”? Какие они, “чужие свои”?
Клавка Стригунова, Петруха – дети Матёры. И оказывается, что Матёра им не нужна. Клавка говорит: “Давно надо было утопить … Живым не пахнет… Подпалю…”. А Петруха сам, своей рукой, подожжёт избу, свой Дом. То, что для “молодых” жизнь, для старух, Павла не жизнь. “Черти, аспиды, туристы” пришли на Матёру, чтобы уничтожить её, но они “чужие”, у них Дома нет, а Клавка, Петруха – где их совесть? Для Клавки в жизни главное – удобства, а удобно ей там, где нет Матёры, она изначально чужда Матёре, “Подпалю”,- грозит она. А Петруха – перекати- поле, пьяница, домопродавец, не сумевший даже сохранить собственное имя (в общем – то он Никита Алексеевич Зотов), за никчемность и разгильдяйство лишила его имени родовая, деревенская община. Сожжёт сам Петруха свою избу, ему перед родственниками не стыдно, потому что нет у него совести, потому что забыл, какого он роду и племени.
6 глава.
Почему у острова есть хозяин? Какой он?
У всего сущего в мире есть хозяин, если это сущее кому-то нужно. Матёра нужна – и есть на острове хозяин, “ни на какого зверя не похожий зверек”. Всё обо всех знает хозяин, ему это дано, но не может ничего изменить, на то есть причина, потому что знает хозяин (так же, как Дарья, Егор), что “всё, что живёт на свете, имеет один смысл - смысл службы”. Хозяину дано знать о трагедии Матёры, Но он знает, что “остров собирался долго жить”, потому что пройдёт время, и люди возмечтают о рае, о земле обетованной и будут стремиться к ней, забыв, что когда-то сами оставили её, нагрешив перед прошлым, настоящим и будущим, сами люди и есть причина всех своих несчастий. Мудрый хозяин охраняет Матёру, но ему не дано изменить людей.
7 глава.
Отъезд Настасьи и Егора. Как в простоте и обыденности происходящего проявляется высокая трагичность момента?
Во время отъезда Настасья вдруг обнаруживает, что вещи, в прежней жизни ей очень нужные (сундук, самовар, старенький половик), взять с собой невозможно, в той, новой, не матёринской жизни, им нет места, их место в Доме. Отъезд для Егора и Настасьи оказывается не просто моментом расставания С Матёрой, а моментом подведения жизненных итогов (“Так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь”).
Уезжая, Егор хочет выбросить ключ от дома в Ангару, всё в дань наступающей воде, всю жизнь, всё, что раньше было дорого и любимо, вода всё заберёт. Егор не плачет, видимо не страдает, он знает, что сюда ему уже не вернуться: мудрость уходящего оказывается мудростью предвидящего. Настасья плачет: ей жаль прежней жизни, но для неё вся трагедия случившегося не открылась, всё поймет только тогда, когда умрёт Егор и останется она одна в городской квартире.
8 глава.
Почему горящая изба Пертухи и Катерины - постыдное событие для односельчан?
Потерявший стыд Петруха всё же подожжёт избу, и вся деревня соберётся, чтобы видеть это. Нет надобности уничтожать огонь, все равно гореть всему, но люди стыдятся того, что происходит, закон памяти, совести жив и значим для всех. Они сохранили свои души, стыд - чувство вины перед невозможностью что-либо изменить.
Горящий дом Катерины – зрелище, напоминающее обряд жертвоприношения. Жертва невиновна, но есть некая необходимость, условность, которую необходимо исполнить. Огонь озаряет всю местность, захватывает всё пространство. Кажется, будто горит уже вся Матёра, напоминающая “страшную, пульсирующую рану”. Изба сгорела, но остался “живой дух”, который нельзя уничтожить.
Эпизод пожара дается в двух ракурсах: вначале мы видим происходящее глазами матёринцев, а затем видим, что за пожаром наблюдает ещё и хозяин. Это соединение видений не случайно, взгляд хозяина ретроспективен, а от этого ещё более трагичным видится происходящее и будущее.
11 глава.
Последний вздох Матёры - сенокос. К чему это время оживления деревне?
Мотив пустоты, уничтожения в повести становится всё более трагичным, оттого так естественно необходимым изображается автором “последний всплеск Матёры – сенокос” (“Отогрели кузницу, поднялся с постели дед Максим, зазвучали перекликаясь по утрам, голос работников”).
Работа, предоставленная людям, как радость обычной крестьянской жизни, превращается в наслаждение этой жизнью. Если обратить внимание, то становится очевидным, что изображённая автором картина крестьянской жизни до обычности проста (так было всегда), но и до трагичности возвышенна (этого больше не будет никогда). Этот последний вздох Матёры патриархально прост – работа, песни, купание, в этом кратком отрыве от реальности люди забывают о надвигающейся утрате. Этот мир Матёры отрицает всё неживое, лишнее, лишь человек и земля становятся центром мира (“Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых катка и запрягали в них по утрам коней, а машина сиротливо, не смея вырваться вперёд, плелась позади и казалась много дряхлей, неуместней подвод”). Последний праздник жизни на своей земле, в своём доме для матёринцев важен – есть чем жить дальше, есть, что вспомнить.
Почему для Андрея жизнь Матёры чужая? Откуда в нём эта чуждость”?
Все дети Павла и Сони на Матёре не прижились, разметались кто куда. Андрей не хочет жить на острове так, как жили его деды и прадеды, и кажется, что в его аргументах есть истина: “Пока молодой, надо, бабушка, всё посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над нею. Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. Что захочет, то и сделает”. Но как грустно, предначертано звучат слова Дарьи, как бы предвидящей все ужасные последствия этой “удали”: “Никуда с земли не деться. Чё говорить – сила вам нонче большая дадена. Да как бы она вас не поборола сила эта та. Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались”. Динамизм Андрея положителен лишь на первый взгляд, человек, Дом свой забывший, человек землю свою отдавший на заклание, вряд ли будет счастлив. Кощунство Андрея в том, что он с лёгкостью, как само собой разумеющееся, отказывается от своей причастности к матёринской жизни, пытаясь найти, где лучше. Cлова безумца, предающего свою малую родину, звучат как слова целого “глупого, забывчивого” поколения: “Я тут ни при чём, бабушка, электричество, требуется электричество. Наша Матёра тоже на электричество пойдет, будет людям пользу приносить”. Матёра, веками кормившая мир, теперь пойдет на электричество, и, таким образом, поставлен вопрос о цене прогресса. Цена эта предельная, земля отдана в жертву энергетической моде. Беспутен Андрей, и образ “беспутства” венчает эту повесть. В финале Павел и другие мужики потеряли путь в тумане, потеряли матерей, обрекли их на смерть в одиночестве, но вместе с островом, вместе с Хозяином.
16 глава.
Каково значение в структуре повести образа горящей мельницы?
На Матёру приезжают “чужаки”, они не столь агрессивны, но Матёра им не Дом, а потому лишь ради забавы поджигают они мельницу. (“Мельницу запалили. Мешала она им, христовенькая. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола,- говорит Дарья). Для матёринцев мельница – источник непрекращающейся жизни, источник постоянства, символ высшего блага (не зря используется эпитет “христовенькая”). Для приезжих пожар – жуткая забава, превращающая их в дикарей не помнящих, что они люди, наделенные разумом, чувствами (“…они прыгали, бросались под жар, - кто дальше забежит…”). Для них – потеха, для матёринцев – жуткое зрелище. Горящая мельница как страдающий человек, потерявший надежду, и Дарья понимает это, видит эти мучения и сопереживает как близкому существу. Живая, горящая мельница – “бесплотные” лица городских дикарей. Но даже они понимают странность совершаемого, один из них произнесет слова, которые всё объяснят Дарье: “Поехала…”. Всё “поехало” в этой жизни, стронулось с привычного места, и нет устойчивости, нет уверенности в постоянстве.
18 глава.
Зачем Дарья идёт на кладбище? Последнее посещение последнего приюта – даёт ли оно успокоение Дарье?
Могильные холмы, обращение к умершим, не сохранённое кладбище – всё это рождает у читателя чувство странной трагической пустоты, беседа Дарьи с умершими и виновность её перед родителями звучит как само собой разумеющееся в данной ситуации. Она пришла за прощением, но не получила его, но её не за что прощать: она жила, боролась с бедой так, как могла. Странный вопрос мучает Дарью: “ Зачем живёт человек? Ради жизни самой, ради детей, и дети детей оставили детей, ли ради чего-то ещё?” Раньше Дарье всё было ясно, а “сейчас дымно и пахнет гарью”, она не знает, как жить. “Устала я, - думал Дарья”. Горестная Дарья, горестная Матёра, горестный мир для всех, правых и не правых, своих и чужих.
19 глава.
Какое место в образной структуре повести занимает “царский листвень”?
Особое место в структуре повести занимает 19 глава. Её символическая значимость почти абсолютна, так как центральный образ – символ раскрывается именно в 19 главе. Царский листвень на Матёре – символ прочности, устойчивости жизни, гармонии в мире. Языческое почитание царского лиственя сближает жителей Матёры с их предками. Такая долгая, почти вечная жизнь дерева, его причастность к каждой минуте жизни Матёры, прошлой, настоящей, даёт возможность читателю почувствовать остроту и трагичность происходящего. Невозможно уничтожить Матёру, доколе она будет жить в памяти людей, невозможным оказывается её уничтожение – нельзя уничтожить и царский листвень. (“Один выстоявший непокорный царский листвень продолжал властвовать над всем вокруг. Но вокруг него была пустота”) Именно в этой главе мотив трагической предопределенности достигает своего накала.
20 глава.
В чём смысл странного священнодейства, совершаемого Дарьей?
Не понять чужому, зачем это Дарья перед “уничтожением” белит свою избу. Не понятно чужому, но отчётливо понимаемо Дарьей. В каждом предмете мира Матёры есть душа, каждая вещь имеет срок службы, имеет своё место. “Прибирает” Дарья свой Дом в последний путь, прощаясь с ним. По закону совести нельзя иначе, а совестливая Дарья иначе и не может. Нелепость ситуации надуманна – Дарья белит свой Дом не зря, не брошен он, не оставлен он на произвол судьбы Хозяйкой, а потому и ход жизни ещё не нарушен. Последняя ночь Дарьи в Доме – тихая, спокойная ночь молитв. Дарья не смирилась, но она успокоилась, поняв, что сделала всё так, как нужно (“И всю ночь она творила молитву, виновато и смиренно прощаясь с избой, и чудилось ей, что слова её что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль”.
«Прощание с Матёрой» является своеобразным предупреждением будущим поколениям. В повести затронуты самые насущные человеческие проблемы. Уже в названии произведения обращаем внимание на слово «Матёра». Это название деревни. Но почему именно Матёра? Связывая название деревни со словом «мать», я вспоминаю чувства людей, которые родились и выросли в Матёре. Матёра также сливается со словом «материк». Это земля, на которой живет народ Матёры. «Матёра» и «матёрый» имеют много общего. Матёра - старое, древнее место. Распутин недаром упоминает, что люди живут здесь около трехсот лет. Здесь глубокие корни.
На этой земле жили и строились предки, здесь и их погост. Тихое, далекое от мира место, глушь. Невольно вспоминается стихотворение Н. Рубцова «Тихая моя Родина». Многое повидала на своем веку деревня. Но такое на веку ее было в первый и, видно, теперь уже в последний раз. С окончанием строительства плотины вода затопит остров, а перед тем деревню пустят под огонь. Но ведь тут вся жизнь прошла, каждый пригорок и куст знакомы с детства. С любым местом связано что-то памятное.
Повесть построена так, что мы постепенно входим в пространство Матёры. Старухи, сидя за самоваром, размышляют о предстоящих переменах и не видят в них ничего доброго. А в природе острова еще «кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара, и так все казалось прочным, что ни во что не верилось - ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание». Но вот приезжают пожегщики. Теперь каждый день деревенские люди видят горящий лес, охваченный густым дымом. Казалось бы, это и есть основной мотив трагедии.
Но люди, решившись на такой страшный шаг, не останавливаются. С болью, горечью рисует автор сцену разорения кладбища. Пожегщики «стаскивали спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем». Для них все это - чужое, абстрактное, к чему они не имеют отношения: приказали - выполняют. Здесь начинается тот конфликт, который приобретает форму борьбы памяти и беспамятства, времени и временности, ценности и цены. Пожегщикам и в голову не приходит, что для материнцев кладбище - нечто святое. Не зря даже сдержанная Дарья, задыхаясь от страха и ярости, закричала и ударила одного из мужиков палкой, со справедливым гневом вопрошая: «Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, поганца, отца с матерью. Ты не человек». Как приговор, звучат ее слова.
Распутин проводит параллель между началом и завершением деятельности пожегщиков. Безжалостное и беспощадное разорение природы приводит к падению нравственности, духовности. Вспоминаются слова Пушкина: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Пожегщики надругались не только над кладбищем, но над историей, над памятью человеческой.
Но ведь сказано: «У кого нет памяти, у того нет жизни». Что же должен чувствовать человек, ради которого жили поколения? - спрашивает автор. В порыве Дарьи и гнев, и презрение, и ненависть. Старуху поддерживает и весь народ. «Мер-ртвых гр-рабют!» - кричит чудаковатый старик Богодул. Даже он понимает, что «плохо» и что «хорошо». Не оправдывает пожегщиков писатель. Вид разорителей пробуждает и в некоторых местных жителях худшие качества. Насмотревшись на пожегщиков, Петруха опускается до того, что поджигает свой собственный дом. Сорокалетний Петруха живет по правилу: «Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра - это его не касается».
Сжег, и сердце не дрогнуло, как будто камень у него в груди вместо сердца, как будто не он рос в этой избе. Единственное, что взял - гармошку. А то, что мать без крыши и без корки хлеба оставил, что любимый ее самовар превратился в оплавленный слиток, - это его не касается: отмерла та часть мозга, которую потом Распутин назовет «духовно охранительной».
Такие, может быть, и одумаются, но это будет слишком поздно, ничего нельзя будет повернуть назад. Трагедия деревни неотделима от судьбы отдельных людей. С первых же страниц писатель особое внимание уделяет образу Дарьи. Она несет в себе много чистого, душевного, человеческого. Прожив жизнь, она хочет умереть на своей Родине.
Кажется, что не мимо Матёры, а мимо нее прошли века, и из каждого века она брала только плодоносное, жизнетворное. Дарья умеет видеть глубже, понимать вернее и тоньше, оценивать явления словно бы изнутри. Она свято чтит память об умерших. Трудно и тяжело расставаться с тем, что окружало всю жизнь, что всегда было рядом, что так любишь и чем дорожишь. Несмотря на разорение и пожары, Матёра не теряет высоты своего духа. Вот страницы, повествующие об уважительном, благоговейном отношении Дарьи к родовому гнезду. Обряжение Дарьей избы - как прощальная песня. Превозмогая усталость, старуха белит, моет. Долго еще, всю ночь оплакивала Дарья избу сухими глазами, изба словно понимала, что с ней делают. Даже у пожегщиков этот поступок Дарьи вызывает уважение. Рушится Матёра со всех сторон. Но среди вырубок и надругательств сохраняется основное. Нет, Матёра не погибнет до конца, такое не может исчезнуть бесследно.
Мне дорог и близок Распутин, потому что он в своих произведениях описывает человеческие чувства и душевные качества, которые я очень ценю в людях. Все, что я прочла у него, пронизано любовью к простым людям с их порой нелегкой судьбой. Распутин пишет о нашей сегодняшней жизни, исследует ее из глубины, будит мысль, заставляет работать душу. Повесть Распутина побуждает задуматься над каждым словом. Пишет он просто, но в то же время глубоко и о серьезном. Он прекрасный психолог, ху-
дожник. Я ясно представляю созданные им картины жизни, волнуюсь, переживаю за судьбы людей.
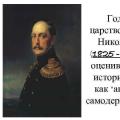 Внешняя и внутренняя политика Николая I- апогей самодержавия «Апогей самодержавия»
Внешняя и внутренняя политика Николая I- апогей самодержавия «Апогей самодержавия» Шансы начала 3 мировой войны
Шансы начала 3 мировой войны Пять известных покушений на императора Александра II
Пять известных покушений на императора Александра II